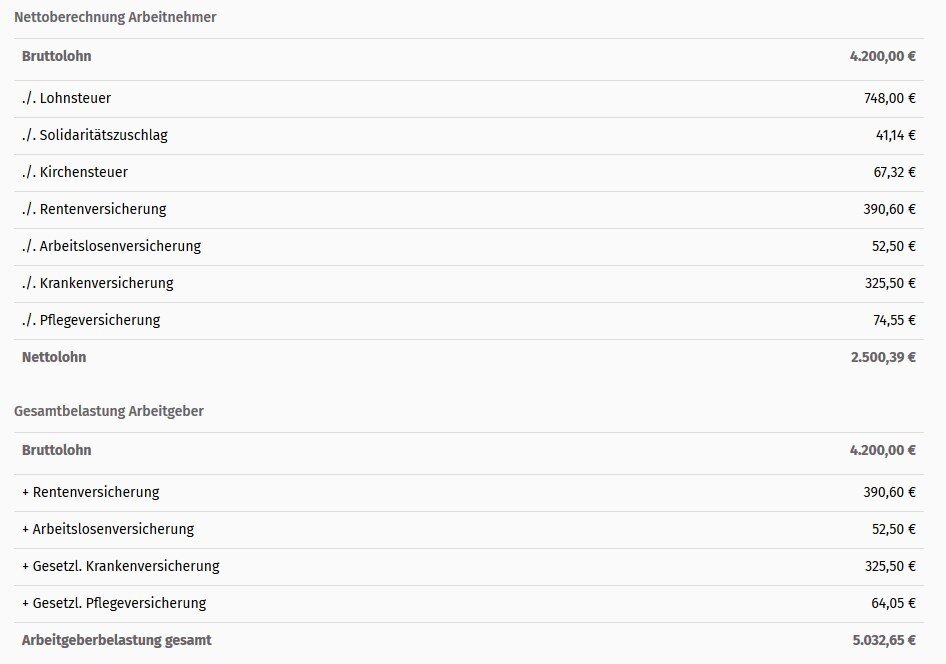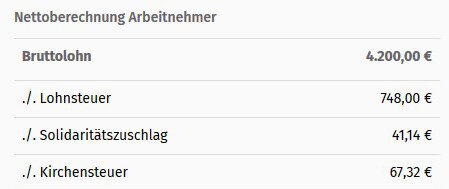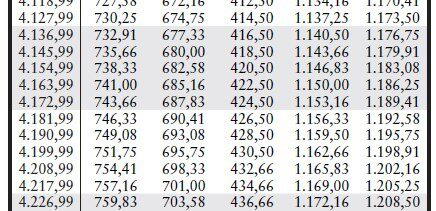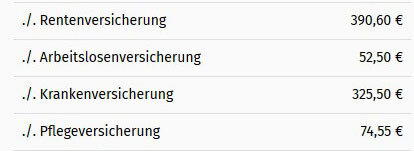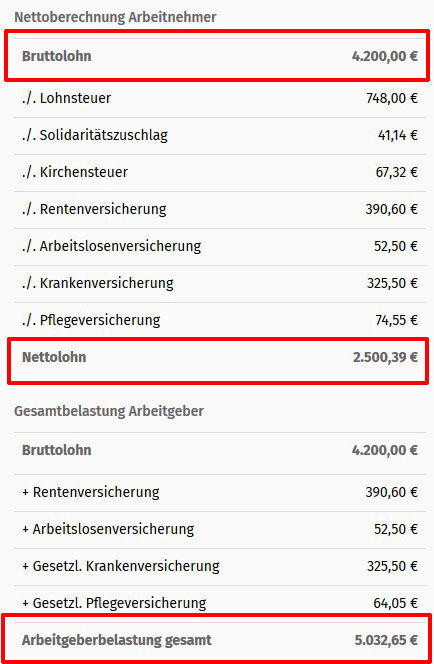Доктор биологических наук, профессор СПбГУ, Никита Чернецов рассказывает о миграциях птиц и их способах ориентирования на тысячи километров.
Вопрос: Как птицы ориентируются при дальних перелётах? Почему птицы улетают на юг, а возвращаются на север?
Никита Чернецов: Основная причина миграции птиц и других животных, которые мигрируют на сотни и тысячи километров, это адаптация к эксплуатации сезонных ресурсов. Главная причина миграций, точнее, глобальная причина миграций – это сезонность климата на Земле. Если у вас есть богатый ресурс в умеренной зоне или в высоких широтах, который можно эксплуатировать – это могут быть фрукты, насекомые, зелёная масса, что угодно, некая биомасса, которая может жить летом – это хорошо. Там, где нельзя выжить зимой, соответственно, адаптацией для жизни в таких широтах является появление там на тот сезон, когда там есть обильный ресурс.
С.Г.: То есть это в первую очередь еда и холод, получается?
Н.Ч.: В первую очередь, еда.
С.Г.: Допустим, в том же Санкт-Петербурге, хоть утки являются перелётными птицами, они иногда на зиму остаются. С чем это связано?
Н.Ч.: В Санкт-Петербурге зимой, особенно в последние двадцать-тридцать лет зимой есть незамерзающие участки воды, где утки могут оставаться. Надо сказать, что в девяностые годы, когда было сильное тепловое загрязнение внутренних вод, уток оставалось ещё больше, чем сейчас. Основное для уток – это незамерзающая вода. В очень суровые зимы, когда полностью всё замерзает или остаются очень небольшие участки не замёрзшие, утки бывают вынуждены среди зимы совершить миграцию в сторону более южных районов, где осталась незамёрзшая вода, или погибнуть.
С.Г.: То есть они зимой совершают перелёт?
Н.Ч.: Да, они могут зимой совершать перелёты. И в Петербурге, и, скажем, в Закавказье водоплавающие птицы массово появляются после того, как наступают холода в Предкавказье. Вот такие птицы, как утки, водоплавающие птицы, если в том районе, где они зимуют, наступили суровые условия, они посреди зимы могут переместиться на сотни километров.
С.Г.: А они не гибнут во время перелёта?
Н.Ч.: Гибнут тоже. Кто погиб, тот погиб, кто не погиб, тот выжил.
С.Г.: С чего начинается изучение миграции птиц?
Н.Ч.: Люди давно заметили, что есть птицы, которые присутствуют в умеренных широтах, только летом. Их нет зимой. Все любят рассказывать, любая лекция об изучении миграции птиц начинается с того, что Аристотель полагал, что ласточки зимуют на морском дне, более того, так полагал не только Аристотель, но и Карл Линней. Ещё во время Карла Линнея замечали, что ласточки осенью собираются в тростниках на берегах водоёмов. Они действительно собираются там на ночёвки во время перелётов, и довольно логично ученые предполагали, что они потом прячутся в ил, а весной из этого ила вылезают. Но потом выяснилось, что это не так. Естественно, первой причиной была эпоха великих географических открытий, когда европейцы стали посещать Африку и обнаруживать там привычных птиц, во всяком случае, ласточек и аистов, зимой. Потом, когда они стали там проводить какое-то время, стали замечать, что, скажем, аисты есть в Европе летом, но их нет зимой, зато в Африке они есть зимой, и их нет европейским летом. Это навело на мысль, что, возможно, это те же самые аисты – физически те же самые особи: аисты, ласточки, ещё какие-то другие птицы, хорошо узнаваемые. А решающий шаг был сделан в самом-самом конце XIX — начале XX века, когда стали индивидуально метить птиц с помощью кольцевания, и тогда было уже показано, не в качестве предположений, пусть даже логичных и обоснованных, а уже непосредственно показано, что та же самая особь может перемещаться из Европы в Африку, например. Естественно, все эти исследования велись вначале в основном там, где были учёные в современном смысле этого слова – в Европе, и потом в Северной Америке.
С.Г.: А как они (птицы) ориентируются во время перелёта?
Н.Ч.: Это очень интересный и большой вопрос. Птицы способны находить районы, в которых они никогда не были, специфические для данной популяции. Они в состоянии лететь на тысячи километров, а потом они в состоянии вернуться. Когда стали кольцевать птиц, обнаружили, что заведомо перелётные птицы, которые зимой в наших широтах совершенно точно отсутствуют, на следующий год обнаруживаются в том же самом районе, где их окольцевали в прошлом году. Одни из первых данных такого рода были получены на вальдшнепах в районе императорской охоты в районе нынешнего Лисино-Корпус, когда метили кольцами вальдшнепов, а потом, на следующий год, обнаруживали, что эти вальдшнепы не зимуют в Ленинградской области, тогда Санкт-Петербургской губернии. То есть одни из самых первых данных о том, что птицы проявляют верность территории прошлогоднего размножения, были получены в России, в Петербургской губернии. И, естественно, возник вопрос, как птицы это делают, потому что если вас отвезти в Африку, там высадить без карты и компаса, то, скорее всего, вы не сможете вернуться в Ленинградскую область. Птицы это, оказывается, способны сделать. Это большая область, которой я непосредственно занимаюсь. Если совсем коротко, то птицы, так же, как любые другие животные, которые совершают миграции на сотни тысяч километров, а это акулы, киты, некоторые бабочки, многие животные совершают дальние миграции, не только птицы, но птицы просто наиболее известны, и лучше всего изучены, они должны пользоваться двумя механизмами. Есть так называемый механизм карты и механизм компаса. В качестве примера, если вы захотите поехать в Москву, то для того, чтобы попасть в Москву, вам нужно понять две вещи. Первое: нужно понять, где Москва находится по отношению к Петербургу, то есть вам нужна некая ментальная репрезентация пространства, которую мы в жизни обычно называем картой. Вы можете воспользоваться бумажной картой, вы можете в голове примерно представлять, как выглядит соотношение Москвы и Петербурга, вы можете пользоваться электронной картой, но вы должны понять, что Петербург находится северо-западнее Москвы или, что то же самое, что Москва находится юго-восточнее Петербурга. Это элемент карты, и он должен быть у вас, у птицы, у антилопы гну, у любого животного, совершающего дальние миграции. После того, как вы поняли, что для того, чтобы оказаться в Москве, вам нужно двигаться на юго-восток, вы должны понять, где находится юго-восток, просто вот рукой показать, где юго-восток. Это элемент компаса, то есть вы должны понимать, где находится север, юг, запад, восток, и, если вам нужно двигаться на юго-восток, где находится юго-восток, физически, отсюда, из этой точки. И эти механизмы карты и механизмы компаса могут быть разными. Это большое достижение, это понял в пятидесятые годы выдающийся немецкий орнитолог и исследователь ориентации животных Густав Крамер. Он понял, что вопрос о том, как животные находят дорогу (он сам был орнитологом, но это относится к любым животным) состоит из двух связанных, но отдельных вопросов: какова природа карты, и какова природа компаса? И ответы на эти вопросы не обязаны быть идентичными. Есть механизмы карты и механизмы компаса. Компас, так получилось, так развивалась наука исторически, что про компасы, про компасные системы птиц мы знаем больше, чем про карты, чем про систему позиционирования. Большинство исследователей, которые занимаются ориентацией и навигацией птиц, изучают как одно, так и другое, и я вот, в частности, занимаюсь и картами, и компасами, компасными системами. Про компасные системы у птиц существует более или менее консенсус, почти все согласны, что у птиц есть три независимые компасные системы. Они в состоянии определять стороны света по Солнцу, по звёздам и по магнитному полю. Там есть свои сложности, нельзя сказать, что это хорошо изучено, но общее представление у нас есть. Есть много интересных вопросов, например, какова иерархия компасных систем? Потому что если у вас есть три системы для одной и той же задачи, возникает вопрос: как они взаимодействуют между собой? Это вопрос, которым мы также занимаемся на биологической станции Рыбачий. Но с системами карт все значительно сложнее. С ними все оставалось непонятно значительно дольше. На данный момент я бы сказал так: есть много идей, как могла бы быть устроена карта для дальней навигации. На мой взгляд, наименее экзотическими – то есть наиболее реалистичными – являются концепции магнитной и запаховой карт. Для обеих этих идей есть достаточно убедительные свидетельства в их пользу. Скажем так: на расстояниях в сотни и тысячи километров некоторые птицы пользуются магнитными картами. Это показали исследования моих коллег и мои, этим я непосредственно занимался и занимаюсь сейчас. И есть данные других исследователей, тоже довольно убедительные, что, по крайней мере, некоторые птицы могут пользоваться запаховой картой, или (скажем более осторожно) некоторым птицам необходимо обоняние для решения навигационных задач. Такая концепция менее очевидная, но есть данные довольно убедительные. Это длинная история, в свое время сторонники магнитной и ольфакторной карт очень активно спорили. На данный момент мы приходим к мнению, что, по-видимому, правы и те, и другие, хотя до сих пор на конференциях надо быть очень осторожными: не дай бог что-нибудь сказать про сторонников запаховой карты нехорошее – они сразу начинают страшно обижаться.
С.Г.: А визуально они как ориентируются?
Н.Ч.: Визуально птицы ориентируются, но на расстояниях прямого сенсорного контакта. Когда я говорю о дальней навигации, я говорю о ситуации, когда птице надо попасть за сотни тысяч километров. Я говорю об истинной навигации, когда нет прямого сенсорного контакта с целью. Разумеется, если вы видите шпиль Петропавловской крепости, то вы можете просто, видя его, идти в сторону Петропавловской крепости, это очевидно. Визуальная ориентация работает, пока вы можете непосредственно видеть объект. Интереснее ситуации, когда птица летит из Ленобласти в Африку или из Северной Америки в Южную, , ситуации, когда прямого сенсорного контакта с целью нет: ни визуального (зрительного), ни ольфакторного (обонятельного), ни слухового – нет прямого сенсорного контакта. Это действительно интересная история.
С.Г.: Но, к примеру, если они океан перелетают, а там остров как ориентир?
Н.Ч.: Остров как ориентир это прекрасно, но остров он маленький. Если под вами океан, вы можете увидеть остров, даже поднявшись на высоту, даже в идеальных погодных условиях, ну, со ста километров. С тысячи километров вы остров не увидите.
С.Г.: То есть они не используют такие острова как ориентиры?
Н.Ч.: Они могут использовать острова как ориентиры, но для этого нужно подлететь к ним на такое расстояние, откуда остров можно увидеть или, например, унюхать. У острова в океане есть запах, который отличается от запаха открытого океана, если вы с подветренной стороны попадете к этому острову. Но для этого вы должны оказаться к этому острову достаточно близко. С тысячи километров острова не видно, его не унюхать, не увидеть и «не услышать». В том-то и интерес, что миграции птиц происходят на таких пространственных масштабах, с которых невозможен прямой сенсорный контакт!
С.Г.: Как пример с крачкой из Арктики: ее нашли на берегах Южной Австралии! Как такие расстояния возможны?
Н.Ч.: Есть треки. Не обязательно нашли, есть прямые треки крачек, которых метили в Гренландии, и они летали с помощью спутниковых передатчиков до Антарктики. Да, совершенно верно, но полярная крачка может садиться на воду, отдыхать на воде! Самый впечатляющий перелет птицы, которая не может отдохнуть на воде – у малого веретенника. Это кулик, который не может сесть на воду. Если он сядет на нее, он уже не взлетит. С Аляски они летают зимовать в Новую Зеландию. Летят осенью, беспосадочно, до 11 тысяч километров. Это 8-9 суток непрерывного полета! Весной они задачу немножко упрощают: делают одну остановку в Желтом море, в Китае, выходит примерно 7 плюс 5 тысяч километров. А осенью 10-11 тысяч километров с Аляски в Новую Зеландию.
С.Г.: Так получается, у них мышцы как-то иначе устроены, нежели у нас?
Н.Ч.: Мышцы, конечно, устроены иначе. У птиц есть механизмы, которые позволяют им выполнять физическую работу на недоступном для нас уровне на протяжении нескольких суток подряд. Когда птица летит, она тратит энергию примерно в два раза быстрее, чем Усэйн Болт, бегущий стометровку. Усэйн Болт бежит стометровку меньше 10 секунд, а птица в состоянии лететь 7-8 суток. У них есть специальные физиологические механизмы, до конца не понятые. Там есть проблема транспорта жиров по крови. Потому что жиры гидрофобные. Это не совсем моя область, но это интересные физиологические механизмы: как птицы обеспечивают доставку энергии с такой интенсивностью на протяжении такого продолжительного времени. Кроме того, возникает вопрос, как они решают проблему депривации сна. Как они не спят по 8-9 суток? Не на веретенниках, но других птицах показано, что они могут спать по полушариям, как дельфины. Но и тут вопрос встает – действительно ли это так? Это некая гипотеза, что, возможно, они спят по полушариям. И все равно, это 7-8 суток расхода энергии на очень высоком уровне, недоступном для млекопитающих.
Н.Ч.: Нет, они не питаются. Всю энергию (конкретно веретенники) запасают в виде жиров. Они взлетают очень жирными, у них масса жира превышает массу тела без жира. Как человек, в норме 60-килограмовый, будет весить 120 кг. Человек с таким лишним весом будет с трудом ходить. Ему будет тяжело, у него будет одышка. А птицы теряют вес, они прилетают достаточно тощими, что говорит о большом совершенстве их системы обмена веществ. Это выглядит, как если бы человек с лишним весом пошел просто в фитнес зал, несколько суток непрерывно поработал, и вышел бы оттуда, сбросив 30 кг! Понятно, что люди так не могут. А птицы так могут.
С.Г.: Когда настолько дальние перелеты совершаются – из Аляски в Новую Зеландию и из Арктики в Австралию – как они по погоде ориентируются, ведь это губительно?
Н.Ч.: Это тоже хороший вопрос. По-видимому, они в состоянии воспринимать уровень давления и немножко практически предсказывать, какая будет погода на расстоянии пары тысяч километров от того места, с которого они взлетают. Потому что существуют понятные законы, как двигаются области низкого и высокого давления. Но те птицы, которые уже взлетели и им надо пролететь 10-11 тысяч километров, за 7 тысяч километров они не могут предсказать погоду. Скорее всего, там долетают не все. Было показано, что зимой те птицы, что долетели до Новой Зеландии, до весны почти не умирают, то есть их смертность почти равна нулю. Получается, почти вся годовая смертность приходится на перелеты. Тот, кто его совершил, живет в прекрасных условиях, и шансы погибнуть очень маленькие. Но, наверное, долетают не все.
С.Г.: Статистика по каким-нибудь видам есть? Любопытства ради.
Н.Ч.: Нет, мы сейчас говорили конкретно о… Вообще считается, что у большей части видов птиц большая часть смертности приходится на период миграции.
С.Г.: Это опасно для них очень.
Н.Ч.: Это опасные периоды, но это окупается низкой смертностью во время зимовки. Вы можете выбрать другой образ жизни, вы можете зимовать на севере, тогда у вас будут проблемы со смертностью зимой. Ну это мы отвлекаемся, понятно что самая высокая смертность при вылете из гнезда, но мы говорим о птицах, которые дожили до того возраста, когда они уже не птенцы.
С.Г.: Вы уже озвучивали GPS-трекеры, как я понимаю…
Н.Ч.: Это не GPS-трекеры.
С.Г.: Ну, о технологиях отслеживания.
Н.Ч.: Исторически занимались кольцеванием, сейчас есть разные виды передатчиков. В бытовом отношении есть понятие глобальной системы позиционирования. Это не обязательно GPS. GPS – это один из случаев. В чем есть система GPS, в классическом варианте вы можете на птицу надеть GPS-логгер. Но беда заключается в том, что вам нужно это птицу повторно поймать, и этот логгер с нее снять. Когда вы едете на машине, и у вас есть навигатор GPS или ГЛОНАСС, разницы никакой нет, вы знаете свое местоположение. Информацию о том, где вы находитесь, получаете вы. Если мы надеваем передатчик на птицу, то нам нет нужды, чтобы птица знала свои координаты, нам нужны ее координаты. Есть другая система, которая исторически была раньше, чем GPS и раньше, чем ГЛОНАСС, это система Аргос. Эта система изначально создавалась для того, чтобы следить за айсбергами, когда у вас есть передатчик, который посылает сигнал на спутник, и со спутника этот сигнал принимается в наземном центре, который в европейской системе Аргос научно-исследовательского центра находится в Тулузе, и там вы можете скачать эту информацию. То есть Аргос позволяет не птице знать свое местоположение, а вам знать положение птицы. Беда в том, что аргосовские передатчики не очень маленькие. Есть совсем уж маленькие 3,5 грамма, но они еще не очень хорошо работают. Самые маленькие аргосовские передатчики, которые работают надежно, это 5 граммов. Передатчик, который весит 5 граммов можно повесить на птицу, которая весит не меньше 100 граммов, то есть не больше 5%. Есть такое правило практическое, что можно не больше 5% добавлять к массе птицы. Есть Система GPS-логгеров, когда информация о том, где находится птица, записывается в датчик, но тогда вам нужно птицу поймать снова. То есть вы должны метить птицу, которая с большой вероятностью на следующий год вернется, и вы сможете ее поймать. Или может быть комбинированный датчик Аргос–GPS, когда GPS записывает информацию, а через Аргос она посылается на спутник, со спутника в наземный центр, с наземного центра вы скачиваете информацию. Вот такие передатчики весят довольно много – 30-40 граммов, его можно надеть на орла или лебедя, и они довольно дорогие: стоит около тысячи долларов один передатчик. Есть другие механизмы с помощью геолокаторов, они очень маленькие, вы надеваете на птицу датчик, который никуда ничего не передает, а пишет уровень освещенности. И зная, когда надели на птицу этот датчик и, зная, когда произошел восход, когда закат вы можете определять широту и долготу, исходя из таблицы восходов закатов и продолжительности длины дня. Это не очень точно, там ошибка будет в пару сотен километров, но для определенных задач этого достаточно. Если вы хотите узнать, зимует ли птичка в восточной или западной Африке, то это с помощью геолокатора вы сможете узнать. Геолокатор бывает маленький, его можно надевать на мелких воробьиных птиц. И кольца тоже. Все равно спутниковых передатчиков всегда будет надето мало, т.е. речь идет о десятках или сотнях, может, первых тысячах прослеженных треков. Это глубокие данные. А кольцевание, которое существует уже почти 120 лет – это широкие данные. Это данные о том, где помечены миллионы птиц, получены десятки тысяч дальних находок, и это позволяет получать данные с больших выборок, эти данные не очень глубокие, но они широкие.
С.Г.: Вы сказали, что нужно знать, что птица вернется на это место. То есть миграция птиц происходит точечно, то есть птице надо в одну точку лететь или направления достаточно?
Н.Ч.: Бывает по-разному. Это зависит от вида. Кроме того, если у нас птица родилась, например, как садовая славка, в Ленинградской области, осенью она летит в Африку. Большая часть ученых считает, что врожденной карты у нее нет, и что садовая славка летит по направлению, которое должно ее привести в те районы Африки, где она зимует. Весной эта славка уже знает, куда летит, то есть осенью она летит в места, где никогда не была (молодая птица). Весной она возвращается в район своего рождения или, если это взрослая птица, в район своего предыдущего размножения. Многие птицы проявляют очень высокую степень филопатрии, то есть верности Родине. Они возвращаются в район, маленький по сравнению с дальностью миграции, и гнездятся недалеко от того места, где они родились. А те птицы, которые уже размножались, они во многих случаях возвращаются очень точно туда, где в прошлом году они размножались, даже в том случае, если это не маленький остров, даже, когда у них есть другие варианты, когда им никто не мешает размножаться в ста километрах. Условно говоря, почему птице, которая в прошлом году размножалась в Лодейнопольском районе, в этом не размножаться в Тихвинском районе (районы Ленинградской области – прим. ред.). Однако, на практике получается, что птицы возвращаются очень точно в пределах одного километра из Африки. Что говорит о том, что у них есть достаточно точная карта и достаточно точная навигационная система.
С.Г.: Есть фильм, суть которого в том, что останавливается центр Земли, ядро. Магнитное поле теряется, и голуби начинают биться о небоскребы. Насколько это на самом деле реально может быть?
Н.Ч.: Ну, днем они не будут биться о небоскребы. Днем они видят, что это стена, и голуби, действительно, используют магнитное поле. Голуби – это вообще немножко отдельная история. Голуби и другие птицы используют магнитное поле и для компаса, и для карты, но речь идет, как я уже говорил, о дальней навигации. Птицы – животные, которые так же, как и люди, большую часть информации получают через зрение. Так же как и мы, это визуальные животные, и если птицы видят, что перед ними находится стена, они не будут об нее биться, как блондинка из анекдота, которой навигатор сказал повернуть налево, и она врубается в стену тоннеля. Птицы не будут так поступать. Магнитная информация используется голубями при хоминге, когда они возвращаются в голубятню. Хотя голуби – это немножко отдельная история.
С.Г.: Очень часто раньше люди с перелетом птиц связывали какие-то приметы, например то, что, если гуси улетели, жди первого снега. Насколько обоснованы эти приметы?
Н.Ч.: Для гусей, если это предсказание погоды на пару дней вперед, это может быть вполне обоснованно, то есть миграции птиц действительно связаны с синоптическими погодными условиями. Птицам действительно значительно проще лететь с попутным ветром, чем со встречным, поэтому, если движется синоптическая система с севера, то это обосновано. Идея о том, что по птицам можно предсказывать, какая будет зима, холодная или не очень не обоснована, потому что предсказывать погоду на несколько месяцев вперед невозможно никак, и птицы этого тоже не могут. Если речь идет о перемещениях синоптических систем в течение пары дней, то да, это вполне реалистично.
С.Г.: То есть, с грачами тоже не обоснованно? С грачами весна приходит.
Н.Ч.: «С грачами приходит весна» в том смысле, что птицы весной – это не только грачи, но и другие птицы, они стараются лететь с попутным ветром. У нас в Европе, как правило, юго-западные ветра для птиц, в метеорологии принято называть, откуда ветер дует, с юго-запада на северо-восток, юго-западным, а для птиц интересно, куда он дует. Ветер, который дует в сторону северо-востока, благоприятен для миграции, потому что с попутным ветром лететь легче, и этот же ветер приносит теплый воздух весной. Речь идет о барических системах на временном масштабе в пару дней. Так это вполне обоснованно.
С.Г.: Авиакомпании как-то считаются с миграцией птиц?
Н.Ч.: Авиакомпаниям есть большой смысл считаться с миграциями птиц, потому что, когда самолет летит на эшелоне, т.е. на высоте 12 тысяч метров, на такой высоте птицы не летают. Проблемы возникают во время взлета и посадки, потому что столкновение самолета с птицами может привести к тяжелым последствиям. Современные коммерческие лайнеры (есть правда, исключения, знаменитая посадка на Гудзон), не разобьются, даже если в двигатель попадет птица. Однако, это авиационное происшествие, и авиационный двигатель очень дорого стоит, поэтому в крупных аэропортах есть должность орнитолога, и проводится орнитологический мониторинг. Задача заключается в том, чтобы минимизировать вероятность столкновения самолетов с птицами. Это прикладная сторона изучения миграции птиц, которая имеет большое хозяйственное значение. Птицы наиболее опасны для военных самолетов, маленьких одномоторных. В Израиле была очень большая проблема, он потерял большое количество самолетов, но летчики успевали катапультироваться, но вы представляете, сколько стоит современный истребитель? Над Израилем идет очень интенсивная миграция птиц, и израильтяне специально изучали этот вопрос с целью минимизировать столкновения военных самолетов, потому что для военных самолетов это опасно совсем. Да это, конечно, имеет больше значение.
С.Г.: Человек может как-то повлиять на маршрут птиц?
Н.Ч.: Человек может изучить, когда происходит миграция. Человек может постараться разместить аэропорт в том месте, где нет скопления мигрирующих птиц. Человек может учитывать эти обстоятельства с помощью радаров. То есть человек не может изменить миграционные потоки птиц. Человек может их учесть, и планировать движение самолетов так, чтобы шансы столкновения с птицами уменьшились. Сейчас это не приводит к гибели людей, но это огромные деньги.
За стенограмму спасибо команде SciTeam