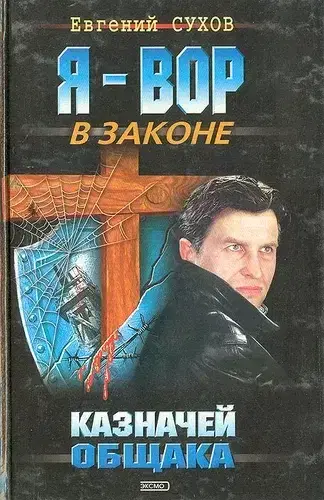За эту неделю разных мы видели казначеев - картины, портреты, песни, исторические личности и т.д. Предлагаю вашему вниманию ещё одну личность - странного казначея, созданного М. Булгаковым.
Отрывок из "Мастера и Маргариты"
На следующий же день (после извещения о смерти Берлиоза), 23-го, Латунский сел в мягкий вагон скорого поезда и утром 24-го уже был у ворот громадного дома номер 10 по Садовой улице.
Пройдя по омытой вчерашней грозой асфальтовой площади двора, Латунский подошел к двери, на которой была надпись "Правление", и, открыв ее, очутился в не проветриваемом никогда и замызганном помещении.
За деревянным столом сидел человек, как показалось Латунскому, чрезвычайно встревоженный.
- Председателя можно видеть? - осведомился Латунский.
Этот простой вопрос почему-то еще более расстроил тоскливого человека. Кося отчаянно глазами, он пробурчал что-то, как с трудом можно было понять, что-то о том, что председателя нету.
Но человек пробурчал что-то, выходило, что и на квартире председателя нету.
Человек вообще ничего не сказал, а поглядел в окно.
- Ага, - сказал умный Латунский и попросил секретаря.
Человек побагровел от напряжения и сказал, что и секретаря нету тоже, что неизвестно когда придет и что он болен.
- А кто же есть из правления? - спросил Латунский.
- Ну я, - неохотно ответил человек, почему-то с испугом глядя на чемодан Латунского, - а вам что, гражданин?
- А вы кто же будете в правлении?
- Казначей Печкин, - бледнея, ответил человек.
- Видите ли, товарищ, - заговорил Латунский, - ваше правление дало мне телеграмму по поводу смерти моего племянника Берлиоза.
- Ничего не знаю. Не в курсе я, товарищ, - изумляя Латунского своим испугом, ответил Печкин и даже зажмурился, чтобы не видеть телеграммы, которую Латунский вынул из кармана.
- Я, товарищ, являюсь наследником покойного писателя, - внушительно заговорил Латунский, вынимая и вторую киевского происхождения бумагу.
- Не в курсе я, - чуть не со слезами сказал странный казначей, вдруг охнул, стал белее стены в правлении и встал с места.
Тут же в правление вошел человек в кепке, в сапогах, с пронзительными, как показалось Латунскому, глазами.
- Казначей Печкин? - интимно спросил он, наклоняясь к Печкину.
- Я, товарищ, - чуть слышно шепнул Печкин.
- Я из милиции, - негромко сказал вошедший, - пойдемте со мной. Тут расписаться надо будет, дело плевое. На минутку.
Печкин почему-то застегнул толстовку, потом ее расстегнул и пошел беспрекословно за вошедшим, более не интересуясь Латунским, и оба исчезли.
Умный Латунский понял, что в правлении ему больше делать нечего, подумал: "Эге-ге!" - и отправился на квартиру Берлиоза.